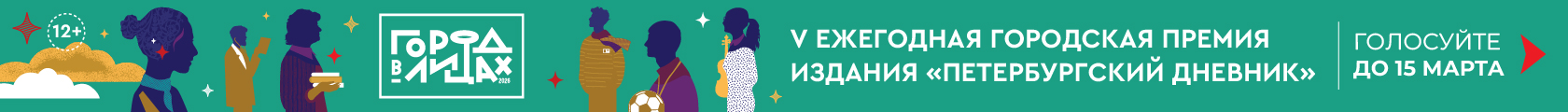
Константин Райкин: «То, о чем мы говорим, попадает в самые животрепещущие моменты времени»
– Константин Аркадьевич, спектакль «Р», который в вашем театре поставил режиссер Юрий Бутусов и где вы играете одну из главных ролей, недавно был удостоен «Золотой маски». Говорят, он рождался в муках?
– В этой профессии работать, добиваться какого-то результата вообще нелегко. С Юрой, как и с другими большими режиссерами, работать трудно. Все, что я люблю, чему меня учили и чему я учу других, у него не так. При том, что я очень эмоциональный человек, я должен понимать на репетиции, что и для чего я делаю. Мне нужны мотивации, а Юра их не дает. Поэтому для меня это еще одна проверка на прочность, на попытку выжить в невыносимых условиях. И, если бы не его талант, не результат, если бы в этом не было какого-то наслаждения и острейшего ощущения радости, тогда это была бы действительно мука. Но когда ты всю эту гамму испытал, уже не можешь идти другой дорогой.
– А не было ли у вас желания вмешаться, что-то подправить?
– Нет. Тут действуют определенные правила игры. Если я как художественный руководитель приглашаю режиссера, то отдаюсь ему как артист. Режиссер – командир, независимо от возраста и опыта. Артист – подчиненный.
А вообще, я люблю быть зрителем в театре. Но в современных спектаклях мне часто мешает густота режиссуры, ее нескромность. В свое время Товстоногов говорил о великой скромной режиссуре, которая незаметна, растворена в актерах. И хотя каждая клеточка спектакля пронизана режиссером, он не чувствуется каждую секунду.
А сейчас режиссура все время забегает вперед, как бы дергая за рукав зрителя, дескать: понимаешь, какой я? И мне это часто бывает утомительно. У Валентина Гафта было такое выражение: «Все равно что есть неразбавленные бульонные кубики…» Но это невозможно, надо разбавить, тогда это будет едой. И в современном театре мне часто хочется сказать режиссеру: «Дай мне забыть про тебя и подключиться к спектаклю». Я все-таки за такой театр, который хочет быть не понятным, а пОнятым.
– Именно этим вы руководствовались, когда недавно ставили «Грозу» Островского, юбилей которого мы отмечаем в этом году?
– Юбилей здесь ни при чем. Это внешняя причина. Островский – глубочайший провидец, который хорошо знает театр и его законы. Он при его гигантском таланте, чутье и острейшем чувстве правды и справедливости воспринимает жизнь через театр. Его современность заключена в том, что он попадает в суть человеческую. Он умеет сделать так, что ты веришь в то, чего почти никогда не бывает. Это победа справедливости над злом, корыстолюбием, жадностью. Это армрестлинг между добром и злом, который он подает так мастерски, что ты веришь в эту сказку. Более того, она облегчает твою жизнь, дает надежду.
– Но ведь «Гроза» – одна из немногих пьес драматурга, где заканчивается все плохо?
– Я давно люблю эту пьесу. А когда у меня на курсе появилась очень таланливая ученица Мария Золотухина, я понял: вот она – Катерина. И это решило мой выбор материала. Конечно, я осознавал, что это самая затрактованная пьеса. Но в ней отражены абсолютно все проблемы сегодняшнего дня – таково свойство великих произведений.
– Значит, действие перенесено в современность?
– У меня такой ответ на этот вопрос. Где? – Везде. Когда? – Всегда. Мне хотелось, чтобы зритель забывал, что это город Калинов. Хотелось уйти от иллюстративности. Мне эта история кажется совсем не бытовой. Она написана почти как поэма. И мы постарались отразить это как-то по-другому.
Однажды на капустнике, посвященном юбилею Дениса Суханова, я увидел, как в течение трех часов танцевали наши молодые артисты. И эта импровизация произвела на меня такое впечатление, что я понял: «Грозу» надо играть в танцевальном классе, среди станков. Где станок – это и загон, и ринг, и дом. И такой человек, как Катерина, приходит в пагубное противоречие со всем этим. Но весь ужас в том, что станок этот есть и внутри нее. Эта пьеса о свободе и несвободе, это очень непростая история.
Возможно, мы покажем этот спектакль на фестивале «Вперед к Островскому!». Во всяком случае, приглашение от «Балтийского дома» мы уже получили.
– Вы 35 лет руководите театром «Сатирикон»...
– Это не имеет никакого значения. Я не люблю глупые высказывания артистов или режиссеров, которые говорят: вот, мол, я уже столько-то лет… Ну и что? Может быть, это стаж некомпетентности. Какое значение тут имеет арифметика? Никакого. Мне вообще кажется верным, когда человек не почивает на лаврах славы, не подводит итоги, не коллекционирует регалии, а продолжает движение, называя это просто работой.
– Тогда спрошу так: что для вас сложнее и важнее: руководить, играть, ставить, преподавать?
– Все очень интересно, одно питает другое. И каждое направление требует тебя целиком и довольно ревниво относится к другим твоим занятиям. Например, педагогика – это такая ревнивая баба, которая не любит, что ты худрук или артист. А сцена не любит, что ты педагог. И она тебе мстит при каждом удобном случае за то, что ты еще чем-то занимаешься. То же самое режиссура – это все ревнивые субстанции. Понимаете?
Но одно без другого у меня уже не получается. Я бы не хотел ни от чего отказываться, потому что у меня много замечательных учеников, которые влекут и вдохновляют. При этом я у них учусь больше, чем они у меня. Мне вообще кажется, что они мне нужнее, чем я им.
Та же Алена Разживина, которая пришла ко мне 15-летней девочкой, была талантливой, но очень робкой. Сейчас она в такой прекрасной форме, что, сама того не желая, щелкает меня по носу. Говорит на репетиции спектакля «Четыре тирана», который мы готовимся выпустить в сентябре: «А почему вы не готовы к репетиции? У меня, например, есть четыре варианта. А у вас и двух нет».
– Это вас радует?
– Да. Это меня держит в хорошем напряжении. С ними надо держать ухо востро, потому что они не прощают твоей неподготовленности, твоей слабости.
– Тут самое время спросить про молодую журналистку, которая, однажды придя к вам на интервью, забыла ваше отчество. Говорят, вы ее выгнали?
– Нет, никого я не выгонял. Это та часть байки, которая придумана. Но вообще так было много раз. То ли человек не собрался, то ли волнуется от встречи со мной. Мне это даже приятно, потому что означает, что он меня числит отдельно. Конечно, для большинства населения я все равно остаюсь сыном Райкина. Ко мне подходят и говорят об этом, думая, что доставляют большое удовольствие. Но есть другие люди, которые хоть раз видели меня вживую в работе, и я для них сам что-то из себя представляю.
– В петербургском Театре эстрады, который носит имя вашего отца, есть памятник ему. Еще у Юрия Гальцева была мечта установить памятник на Конюшенной. Для вас это важно?
– Ленинград для отца, хотя родился он в Риге, был родиной. Для него это особый город, и для Ленинграда Райкин был громадной фигурой. Мне кажется, это было бы хорошо.
В городе есть мемориальная доска на бывшем Кировском проспекте в доме №17, где мы жили. А на Греческом проспекте, где в большой коммунальной квартире много лет жила наша семья и до моего рождения, и после, ее нет. Сказали, что две доски – это много.
Но меня очень радует, что есть зал Театра эстрады, прекрасно оснащенный, в очень хорошем состоянии. За что нужно сказать большое спасибо Юрию Гальцеву. Я помню папины спектакли в этом театре, откуда все и начиналось. Он очень любил играть в этом туго набитом публикой небольшом зале. С этим помещением и у меня связаны очень сильные воспоминания. Я сам там работал много раз. Там прекрасное театральное пространство и хороший контакт с публикой. Мне кажется, это самое главное.
– Когда приезжаете в родной город, есть ли у вас желание и возможность походить по тем местам, которые особенно дороги?
– Есть любимые места, например Петроградская сторона. Есть одноклассники, есть учителя. С некоторыми я дружил всю жизнь, привозил их на премьеры в Москву.
У меня была замечательная учительница по литературе Наталья Павловна Соболева, к сожалению, сейчас она уже ушла из жизни. Однажды, когда мы говорили о «Портрете» Гоголя, она на последних 15 минутах урока предложила написать сочинение, поразмышляв о фразе из этой повести. Она звучит так: «Художник и в тревоге дышит покоем…» Представляете, за 15 минут осмыслить это! Я не помню, что написал тогда. Но всю жизнь пытаюсь найти ответ на этот вопрос.
– Недавно вы привозили в Петербург «Дон Жуана». А нужны ли сегодня такие жизнеутверждающие, в чем-то даже веселые спектакли?
– Во-первых, это гениальное произведение Мольера. Во-вторых, это остроумная, очень глубокая вещь, и до такой степени современная, что, когда я произношу некоторые монологи, мне порой становится страшно. Потому что то, о чем мы говорим, попадает в самые больные и животрепещущие моменты времени.
Что касается веселых спектаклей, то этот вопрос я сам себе задавал неоднократно. И однажды пришел на спектакль «Плутни Скапена» – очень смешной, дающий отличный повод для актерской игровой стихии, – чтобы посмотреть на него именно под этим углом зрения. И хотя говорить об этом неловко, потому что я сам его ставил, я увидел, что сейчас реакции публики разительно усилились, что людям это нужно. Что у них есть потребность получать радость и говорить спасибо своими аплодисментами.
Если это умный юмор, если делается всерьез и с отдачей и в актерском исполнении нет цинизма и пошлости, то это благое дело. А все эти разговоры: как можно в такое время делать комедии, – это ерунда, недомыслие. Потому что был во время Великой Отечественной войны Театр музкомедии. И был театр Аркадия Райкина, который ездил по фронтам и смешил бойцов, находящихся под страхом смерти.
У папы несколько боевых орденов, и мама записывала самые невероятные случаи. Однажды они играли перед личным составом военно-морской базы. И все бойцы были отягощены тем, что с задания не вернулась подводная лодка. Актеры, конечно, почувствовали по реакции зрителей, что что-то идет не так, доиграли с большим трудом. И вот, когда они сыграли спектакль, вдруг эта подлодка вернулась. Это была такая радость, что командир части попросил: «Сыграйте нам еще раз!» И они сыграли спектакль второй раз. Вот какие бывали случаи.
