Академик Дмитрий Гранов: «Методики классического врачевания ничем не заменить»
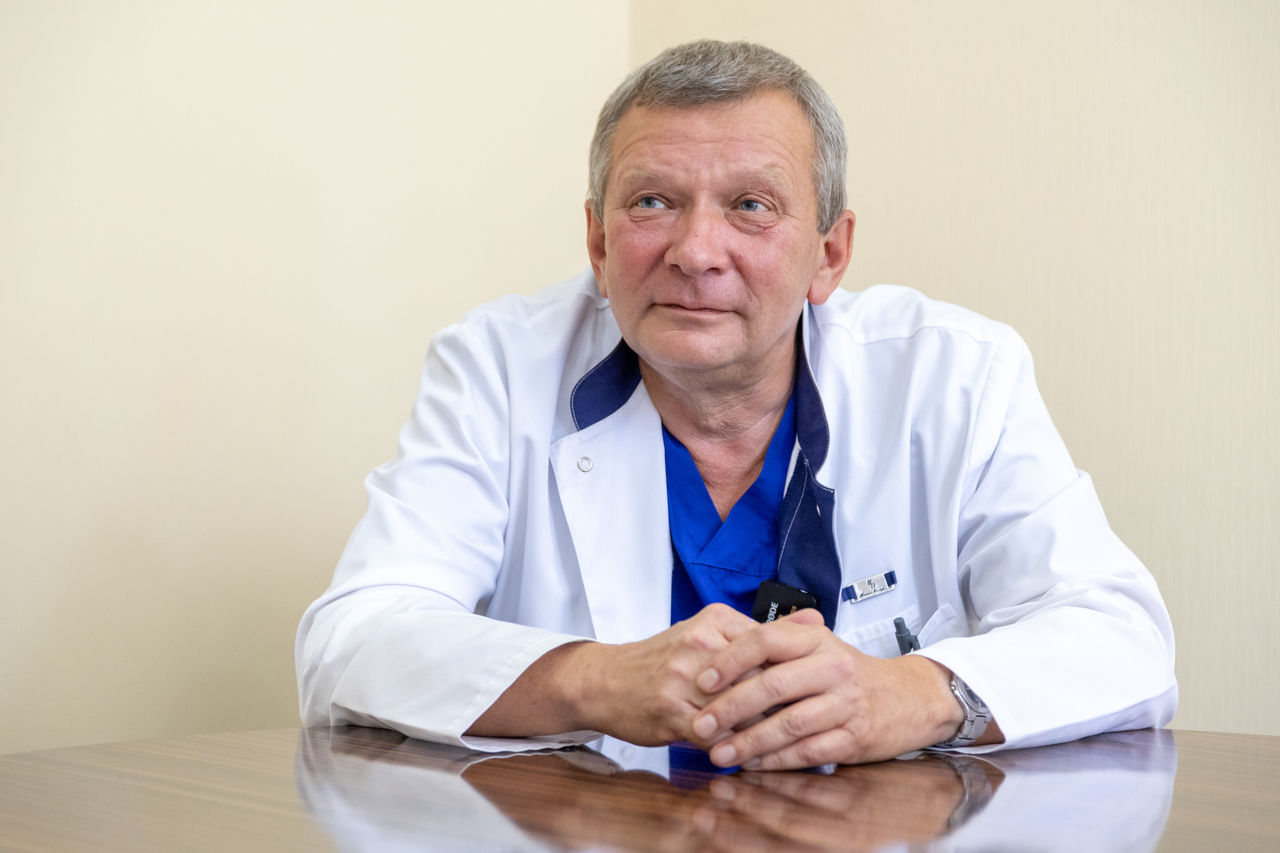
В поселке Песочный по соседству с известными онкологическими клиниками – Онкоцентром им. Н. Н. Напалкова и Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Н. Н. Петрова – находится легендарный институт, отметивший 7 лет назад свое 100-летие. Это Российский научный центр радиологии и хирургических технологий Минздрава России имени академика Анатолия Гранова.
Сам Рентген был восхищен
– Дмитрий Анатольевич, расскажите, пожалуйста, об основных направлениях работы центра.
– Наш центр был первым в мире специализированным учреждением рентгенорадиологического профиля, созданным через несколько месяцев после Октябрьской революции. Институт был создан по инициативе профессоров Михаила Исаевича Неменова и Абрама Федоровича Иоффе при непосредственном участии наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского. Институт был задуман как мультидисциплинарное научное учреждение для решения теоретических и практических вопросов действия ионизирующей радиации на биологические объекты и применения ее в медицине. Медико-биологическое направление возглавлял Неменов, физико-техническое – Иоффе, радиевое – Лев Станиславович Коловрат-Червинский. Сам Вильгельм Рентген высоко оценил его создание, а дважды лауреат Нобелевской премии Мария Склодовская-Кюри лично подписывала сертификаты препаратов радия, высылаемых в институт для использования в лечебных и научных целях. Здесь были заложены основы отечественной рентгенологии и радиологии, радиобиологии и медицинской радиационной физики, здесь разрабатывались фундаментальные основы клинических методов лучевой терапии, отсюда пошли отечественная рентгенология и рентгенодиагностика заболеваний различных органов.

– Какие годы современной истории были знаковыми для института?
– В 1980-е и 1990-е годы здесь стали развиваться новые для учреждения направления. Это прежде всего рентгенэндоваскулярная хирургия, новая специальность – интервенционная радиология. Переоценить достижения сотрудников центра в этой области трудно. На совершенно другой уровень вышла хирургия, лечение онкологических и неонкологических заболеваний печени, поджелудочной железы, урология. Конечно, научные разработки сегодня касаются не только клинических аспектов, связанных с онкологией, с сосудистыми проблемами, а наверное, с ядерной медициной в целом.
– В 1993 году директором института был назначен ваш отец академик РАН Анатолий Михайлович Гранов. Впоследствии центр получил его имя. Расскажите об этих годах.
– Начиная с 1998 года в институте начали развивать программу по пересадке печени с результатами, соответствующими мировым стандартам. Одним из приоритетных направлений деятельности института стало создание диагностических и лекарственных препаратов на основе новейших методов биотехнологии.
Двухтысячные годы ознаменовались настоящим технологическим прорывом в развитии лучевой диагностики. В эти же годы были заложены основы нового перспективного направления деятельности института – ядерной медицины и молекулярной визуализации. В 1998 году было создано отделение циклотронных радиофармпрепаратов, причем использовались отечественные циклотроны. К этому времени относится организация одного из первых в России центров позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ КТ).
Институт был первым в мире учреждением, в котором разрабатывались и внедрялись в клиническую практику методы лучевой и комбинированной терапии опухолевых, системных и неопухолевых заболеваний. Начал использоваться «Гамма-нож» для высокоточного облучения патологических образований головного мозга.
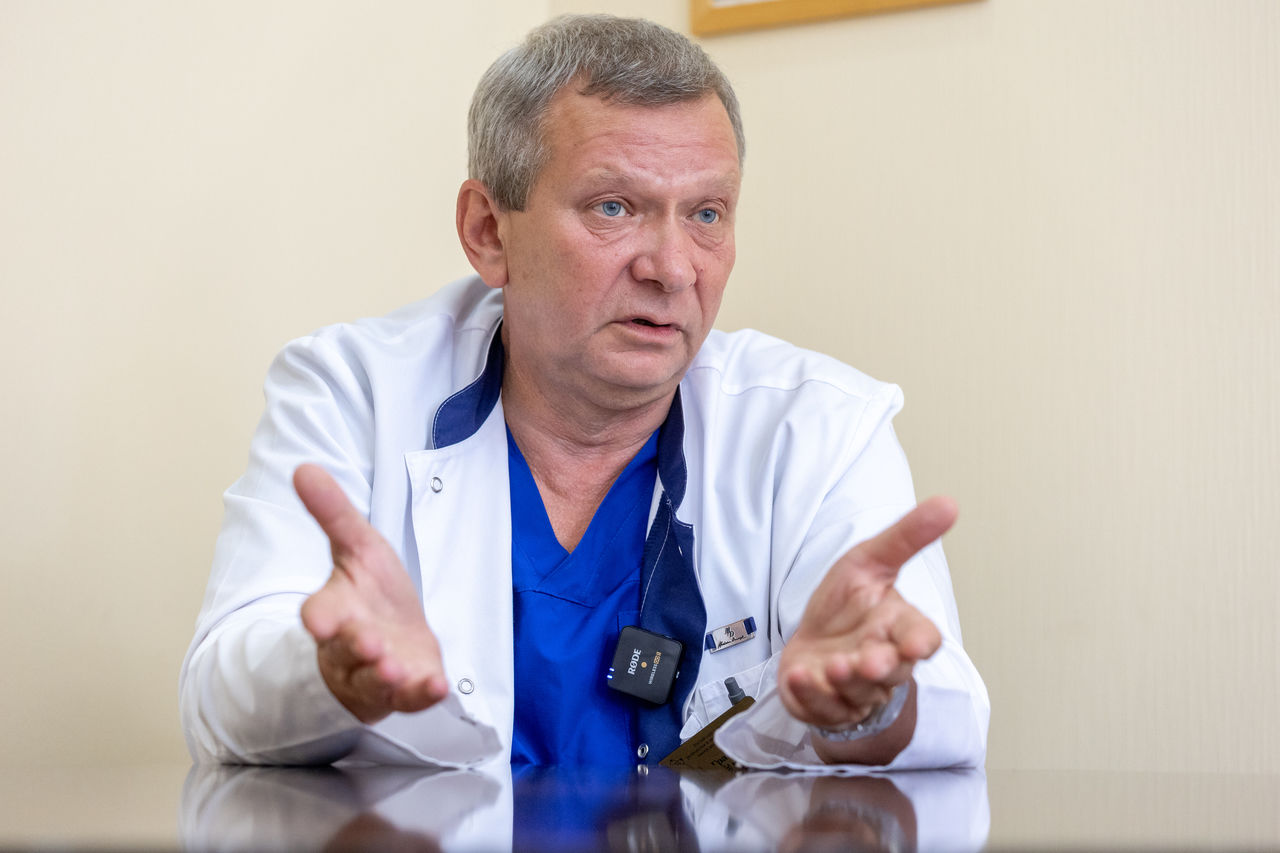
Мы – на переднем крае
– Все знают, что в Песочном находятся ведущие онкоцентры. Но ваш центр кажется несколько обособленным. Почему складывается такое впечатление и как к вам попадают пациенты?
– На самом деле впечатление обманчиво, никаких проблем с поступлением пациентов к нам нет. Сейчас система унифицирована и, кстати, достаточно грамотно продумана. Центр работает в рамках квот на высокотехнологичные методы лечения, по полисам обязательного медицинского страхования. Может быть, впечатление «обособленности» складывается из-за того, что у нас всего 260 коек. По сравнению с большими соседями мы – маленькие.
– Может быть, дело еще в том, что большинство привыкло думать, что здесь настолько высокотехнологичные операции, что «обычный» пациент вам не по статусу, неинтересен?
– Мы можем принимать пациентов из любого региона, что мы и делаем. У нас есть более высокотехнологичные вмешательства, есть стандартные вмешательства, я думаю, что сегодня принципиальных отличий между центрами нашего уровня нет. Технологии сравнимы, уровень специалистов, думаю, принципиально не отличается.
В целом я могу даже с радостью констатировать выравнивание уровня оказания помощи как в муниципальных, так и в федеральных учреждениях. Но, наверное, для федеральных учреждений чуть-чуть проще лишний раз вернуться к обсуждению пациента, к лечению, у нас нет такого жесткого потока. Думаю, задача федеральных центров – помогать пациентам в случаях, когда трудно оперировать только прописанными стандартами. Мы берем чуть больше пациентов крайне тяжелой категории, которые не всегда ясны в диагностическом плане.

– Почему некоторые сложные исследования, в частности ПЭТ-КТ, в таком дефиците?
– Позитронно-эмиссионная томография есть не только у нас, еще в ряде центров. Но спектр препаратов, которые используются в диагностике, действительно, здесь самый большой.
Видимо, исходно наш ПЭТ-центр и циклотронный центр были ведущими на Северо-Западе, и нам удалось сохранить этот уровень. Спектр производства и диагностические возможности нашего центра, наверное, сегодня наиболее широкие в стране.
– То есть вы сами производите и сами применяете изотопы для диагностики?
– Есть изотоп для диагностики нейроэндокринных заболеваний, есть изотоп для диагностики опухоли простаты и так далее. Разработка этих изотопов сегодня называется ядерной медициной. И мы – одни из лидеров в этом. По крайней мере, мы на переднем крае.
Прогресс очевиден
– Теперь давайте перейдем к гепатологии, болезням печени, поскольку это все-таки ваша специфика. Какой она была, первая трансплантация печени?
– Это было очень волнующе. Первая трансплантация состоялась 14 июня 1998 года. Тогда Центр не был оснащен соответствующим современным образом, было очень трудно. Мы долго учились у наших коллег в Москве, у шведских коллег. И первые операции делались совместно. Помню, операция закончилась ночью, от пациента отходить страшно, но периодически мы выбегали, садились на скамеечки, смотрели на небо, и было какое-то удивительное ощущение переполнения счастьем. Кстати, первая пациентка прожила 21 год после пересадки. Но я должен отметить, что мы не являемся трансплантационным центром в чистом виде. Пересадка печени – это одна из значительного количества операций, которая при определенных показаниях помогает пациенту вылечиться или продлить жизнь. Трансплантация считается последней в списке лечебных процедур, которая выполняется тогда, когда другие методы не помогают или не обеспечивают заметного продления жизни.

– А с заболеваниями печени сейчас меняется как-то ситуация?
– Да, меняется, и речь идет не о каких-то локальных успехах. Успех человечества – это победа над гепатитом С. Существенным образом изменилась ситуация с аутоиммунными, с паразитарными заболеваниями. Достигнут прогресс при первичных злокачественных новообразованиях печени. Причем это не только хирургия, это и лекарственная терапия, это и рентгенэндовоскулярная хирургия. Существенным образом изменились возможности диагностики. Ну кто 20-30 лет назад мог обсуждать, как контрастируется опухоль во время компьютерной томографии? А сегодня это стандарт, это рутина.
– У нас все равно по привычке ругаются, что на КТ очередь, на госпитализацию нет квот…
– Мы всегда будем что-то ругать, это совершенно нормально, но нельзя не констатировать, что общий уровень диагностики и общая доступность современных лечебных методик сегодня существенно выше. Я могу судить просто по тем выпискам, по заключениям, с которыми приходят пациенты. Это совершенно другой уровень, хотя может быть сделано в обычном диагностическом центре где-нибудь в регионах. Есть стандарты, есть рекомендации, их надо выполнять, иначе страховая фирма не заплатит. Поэтому делается как положено. В каких-то регионах это налажено лучше, в каких-то хуже. Но что касается Питера и Ленинградской области, мне кажется, что прогресс заметен.
– У нас привычно говорят, что у врачей в клиниках руки золотые, но вот до клиники и после клиники все оставляет желать лучшего. Что надо изменить»?
– Давайте себе представим ситуацию. Мы приходим в поликлинику, там сидит доктор. У нее ребенок маленький, мама болеет, ей надо спешить. Вы приходите в конце дня, врач устал, не очень корректно с вами побеседовал, и вы говорите, что недовольны медицинским обслуживанием. А на следующий день вашему папе в течение часа выполнили стентирование и спасли от инфаркта. И вы скажете, что наша медицина – это вообще космос. Все это очень субъективно, зависит от конкретной ситуации.
Я скажу то, что думаю. Мне кажется, самая главная проблема – это время. Время, которое теряет условный пациент между первичным этапом и окончательным вариантом выбора того или иного лечебного метода. Если еще речь идет о плановом варианте или об экстренной ситуации, службы работают достаточно хорошо. Да, они перегружены, но тем не менее ургентная помощь в городе на достаточно высоком уровне. Что касается плановых вариантов, прежде всего если говорить об онкологии, наверное, вот этот период от первичного обращения до начала лечения надо сокращать. Что касается уровня оказания помощи, я считаю, что он соответствует современным стандартам.

«Я вижу горящие глаза»
– Не могу не спросить о роли личности в истории данного центра. То, что Дмитрий Анатольевич Гранов работает в институте имени его папы, возглавляет его научную часть, это хорошо? Или это давит, слишком ответственно?– Так получилось. У нас в семье все происходило часто не благодаря, а вопреки. После окончания Первого медицинского я вообще работал в другом месте. Но потом, наверное, где-то семейные узы, может быть, в какой-то мере интерес к тому, над чем работали здесь, заставили меня перейти в этот центр. Я же не являюсь, так сказать, непосредственно администратором, таким «лорд-хранителем малой печати». Моя самая главная задача в уже достаточно зрелом для хирурга возрасте – это передавать опыт, иногда немножко поругать, иногда похвалить. И я очень доволен тем, что происходит с поколением, которое идет за мной.
– Вы один из немногих, который хвалит молодых врачей. Что вы пытаетесь донести до них?
– Я получаю удовольствие от того, что я вижу, и от общения со своими более юными коллегами. Я вижу горящие глаза, я вижу, наверное, самое главное – это соучастие и умение разделить боль с пациентом, которого ты лечишь. Самое главное – это понять психологию пациента. Понять, что он чувствует в конкретный момент. Здесь нет мелочей начиная с внешнего вида врача. Улыбается он или хмурится. Как он разговаривает. Как он рассматривает перспективы тех лечебных планов, которые должны быть выполнены. Да, классические приемы и методики врачевания замещаются цифровыми технологиями. Даже термин какой-то придуман: цифровые больные. Да, уровень диагностики более доступен, но иногда, особенно в нестандартных ситуациях, какая-то маленькая история из жизни пациента может полностью изменить ситуацию. Но это, наверное, проблема не конкретных врачей, это вообще проблема цивилизации. Мы от общения друг с другом переходим к общению с телефоном, компьютером. Я понимаю, что это веление времени, но что касается методик классического врачевания, их нельзя отменить. Хороший врач сумеет найти этот здоровый баланс. Ну а тот, который в плохом смысле ремесленник, ему и так все равно.
